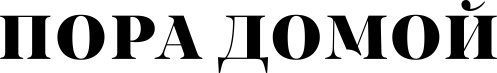Иван Шмелев
Описание традиций русского праздничного застолья нередко встречаются в записках и дневниках путешествий иностранцев, побывавших в России. Надо заметить, что иноземцы отдавали должное русской кухне. И русскому гостеприимству.
НЕБЫВАЛЫЙОБЕД



Описание традиций русского праздничного застолья нередко встречаются в записках и дневниках путешествий иностранцев, побывавших в России. Надо заметить, что иноземцы отдавали должное русской кухне. И русскому гостеприимству.
И.С. Шмелев, знаток человеческой натуры, в рассказе «Небывалый обед» раскрывает одну из сторон «загадочной русской души». С одной стороны – поклонение перед иностранцами и традиционное русское гостеприимство, с другой – неудержимая потребность наказать иноземца, нажившегося на простодушной открытости русских людей...
И.С. Шмелев, знаток человеческой натуры, в рассказе «Небывалый обед» раскрывает одну из сторон «загадочной русской души». С одной стороны – поклонение перед иностранцами и традиционное русское гостеприимство, с другой – неудержимая потребность наказать иноземца, нажившегося на простодушной открытости русских людей...
У нас в доме большая суматоха: небывалый обед готовят, для англичанина,– за Гаранькой из Митрева трактира побежали. Я спрашиваю у Горкина: «Это почему, небывалый? он важный англичанин? на царя похож, а?» А он сердится, говорит: «Еще чего скажи – на царя... набрал денег с дураков, а ему уважение!» – «С каких дураков, почему?» – «А, ну тебя... папашенька еще услышит».
Сам Василь Василич побежал за Гаранькой, только вряд ли захватит свежего: воскресенье; Гаранька, пожалуй, без задних ног. В кабинете – отец с Фирсановым. Как парадный у нас обед – всегда Фирсанов. Войну праздновали, когда Скобелев Плевну взял,– тоже Фирсанов был. Он сидит на диване; во рту сигара,– прыгает под губой,– и я смотрю на нее, как бы не загорелись бакенбарды. Стелется синий дым; отец не любит, и жавороночку вредно, но Фирсанов смолоду отравился, не может без сигары. Я сижу рядом с ним и даже через сигару слышу, как пахнет поварами,– такой дух от него, кондитерский. Английский обед Фирсанов готовить не берется, может только сервировать; взял бы, пожалуй, Лабунова, от графа Шереметева, да тот, на грех, к Преподобному отпросился. Отец спрашивает, справится ли Гаранька.
– Справиться-то он справится, а сами знаете, какой человек... каверзник самондравный, за то и из дворца прогнали. А всякий соус составит, такой ему дар от бога. У князя Долгорукова жил – и то – нагрубил, ге-не-рал–губернатору! Его князь в двадцать четыре часа из Москвы выкинуть грозился, да... очень, подлец, расстегаи хорошо умеет, нет-нет и посылает за Гаранькой, два жандарма его берут. И чтобы обязательно ему рябиновой две бутылки, а то никакой силой не заставить... хоть в Сибири, говорит, сгноите, вон какой. Как уж он год у Судака-паши продержался... на Зацепе у нас Судак-паша в плену жил. Халат какой подарил Гараньке.
Сам Василь Василич побежал за Гаранькой, только вряд ли захватит свежего: воскресенье; Гаранька, пожалуй, без задних ног. В кабинете – отец с Фирсановым. Как парадный у нас обед – всегда Фирсанов. Войну праздновали, когда Скобелев Плевну взял,– тоже Фирсанов был. Он сидит на диване; во рту сигара,– прыгает под губой,– и я смотрю на нее, как бы не загорелись бакенбарды. Стелется синий дым; отец не любит, и жавороночку вредно, но Фирсанов смолоду отравился, не может без сигары. Я сижу рядом с ним и даже через сигару слышу, как пахнет поварами,– такой дух от него, кондитерский. Английский обед Фирсанов готовить не берется, может только сервировать; взял бы, пожалуй, Лабунова, от графа Шереметева, да тот, на грех, к Преподобному отпросился. Отец спрашивает, справится ли Гаранька.
– Справиться-то он справится, а сами знаете, какой человек... каверзник самондравный, за то и из дворца прогнали. А всякий соус составит, такой ему дар от бога. У князя Долгорукова жил – и то – нагрубил, ге-не-рал–губернатору! Его князь в двадцать четыре часа из Москвы выкинуть грозился, да... очень, подлец, расстегаи хорошо умеет, нет-нет и посылает за Гаранькой, два жандарма его берут. И чтобы обязательно ему рябиновой две бутылки, а то никакой силой не заставить... хоть в Сибири, говорит, сгноите, вон какой. Как уж он год у Судака-паши продержался... на Зацепе у нас Судак-паша в плену жил. Халат какой подарил Гараньке.
В. Маковский. В трактире. 1897
А. Шишкин. За обедом. 2010
– Привел-с,– шепотом говорит Косой, словно какую тайну,– свежего захватил-с...– и радостно встряхивает хохлом.
– Ты чего радуешься? – говорит отец.– Запраздновал? Давай Гараньку. Выходит рыжий взъерошенный Гаранька. На нем сальный пиджак без пуговиц, гороховые панталоны, легкие; калоши на босу ногу; в волосатом кулаке картуз с согнутым козырьком, похожим на копытце. Глаза зеленые, дерзкие; худой, высокий,– живой разбойник, Горкин его все так.
– Ну, вот я...– говорит он железным голосом и сует кулаки под мышки.
– Э, Гараня...– трясет бакенбардами Фирсанов,– порядка не знаешь, не здороваешься? В дом тебя позвали, а ты с Хитрова рынка чисто.
– Ну, здрасьте...– нехотя говорит Гаранька.– А не нужен, дак я...– И он поворачивается боком.
– Не нужен – не звали бы,– говорит отец.– Английский обед можешь?
– Чего ж не мочь! – через губу говорит Гаранька.– У Судака-паши не то готовил. Вам как... парадный или простой?
– Парадный. Англичанина провожаем, известный человек.
– У-у... самый английский? – мычит Гаранька и начинает мотать ногой, будто хочет швырнуть галошу.
– Нет, сперва проспись, после поговорим! – говорит отец, хмурясь.
– Это как же? – встряхивается Гаранька дерзко.– Не желаете – могу и уйти! – И опять повертывается боком.
– Вот за что тебя из дворца прогнали...– грозится ему Фирсанов,– за твои каверзы! А ломаешься – Лабунова возьмем.
– Зовите Лабунова. Беспокоите только... Ла-бу-но-ва! – И он уходит.
– Вот, с... с...! – говорит отец и сбрасывает костяшки-счеты.
– Дозвольте доложиться-с...– просовывается Василь Василич.– Не ушел-с, сейчас обойдется... маленько не при себе, не свеж-с.
– Ты чего радуешься? – говорит отец.– Запраздновал? Давай Гараньку. Выходит рыжий взъерошенный Гаранька. На нем сальный пиджак без пуговиц, гороховые панталоны, легкие; калоши на босу ногу; в волосатом кулаке картуз с согнутым козырьком, похожим на копытце. Глаза зеленые, дерзкие; худой, высокий,– живой разбойник, Горкин его все так.
– Ну, вот я...– говорит он железным голосом и сует кулаки под мышки.
– Э, Гараня...– трясет бакенбардами Фирсанов,– порядка не знаешь, не здороваешься? В дом тебя позвали, а ты с Хитрова рынка чисто.
– Ну, здрасьте...– нехотя говорит Гаранька.– А не нужен, дак я...– И он поворачивается боком.
– Не нужен – не звали бы,– говорит отец.– Английский обед можешь?
– Чего ж не мочь! – через губу говорит Гаранька.– У Судака-паши не то готовил. Вам как... парадный или простой?
– Парадный. Англичанина провожаем, известный человек.
– У-у... самый английский? – мычит Гаранька и начинает мотать ногой, будто хочет швырнуть галошу.
– Нет, сперва проспись, после поговорим! – говорит отец, хмурясь.
– Это как же? – встряхивается Гаранька дерзко.– Не желаете – могу и уйти! – И опять повертывается боком.
– Вот за что тебя из дворца прогнали...– грозится ему Фирсанов,– за твои каверзы! А ломаешься – Лабунова возьмем.
– Зовите Лабунова. Беспокоите только... Ла-бу-но-ва! – И он уходит.
– Вот, с... с...! – говорит отец и сбрасывает костяшки-счеты.
– Дозвольте доложиться-с...– просовывается Василь Василич.– Не ушел-с, сейчас обойдется... маленько не при себе, не свеж-с.
– Настояще-английский вам? – слышится за Косым.– Когда изволите?
– Одумался? Завтра надо.
– Можно. Любят погорячей. Суп из хвостов – первое удовольствие им. Ихней рыбы не найдем – сомовины возьму, под лимончиком с синдереем, уважают синдерей. Розбив, понятно, на хересе с синдереем, захреновым. Индейка, опять под синдереем... можно и баранье филе, под чесночок, соус мадерный, с диким медом на битых сливках, желе брусничная. Ну, пудинги, понятно, с пламем... да уж, послов кормил! Закуски там, водка можжевеловая, портер, понятно...
– Это уж Фирсанов оборудует.
– Дозвольте, скажу-с...– просовывается голова Косого,– горькую шибко уважают, с перехватцем-с!
– Одумался? Завтра надо.
– Можно. Любят погорячей. Суп из хвостов – первое удовольствие им. Ихней рыбы не найдем – сомовины возьму, под лимончиком с синдереем, уважают синдерей. Розбив, понятно, на хересе с синдереем, захреновым. Индейка, опять под синдереем... можно и баранье филе, под чесночок, соус мадерный, с диким медом на битых сливках, желе брусничная. Ну, пудинги, понятно, с пламем... да уж, послов кормил! Закуски там, водка можжевеловая, портер, понятно...
– Это уж Фирсанов оборудует.
– Дозвольте, скажу-с...– просовывается голова Косого,– горькую шибко уважают, с перехватцем-с!
– Для ихнего сыру... рябчиков тертых,– печенков, на коньяке. Заячий пирог... да без зайца обойдусь: паштет из рябчишной требухи – не отличишь. Хотите – сами по моему леестру, а то я в Охотный могу?.. Сами. Только полная чтобы воля мне, подручных и медную посуду, очистить кухню... окромя положенного, две бутылки рябиновки. После обеда зачинаю! – И, мотнув головой, уходит.
– Ах, с... с...,– говорит отец.
– А во дворце-то как мучились...– говорит Фирсанов,– главный повар чуть от него не удавился. Из-за пирожков только и терпели... выгнали-таки.
– Дозвольте сказать, – опять просовывается Косой, – господин Энтальцев, поздравлятель... приятели с Кингой. И могу, говорит, для конпании, для разговора, умеет по-ихнему... у Бахрушина в сюртуке сидел, разговоры разговаривал с Кингой. Просится пообедать, для разговору.
– Вон что. Хорошо бы, правда...– говорит, обдумывая, отец, – у Куманина гувернантка разговаривала, у Губонина директор от Бромлея. Хоть и может Кинг по-нашему, а надо бы. Да только как бы не напился... и одежи у него нет приличной. Ну, можно ему сюртук дать.
– Теперь одетый ходит, после тетки тыща рублей ему досталась. И теперь только портвейн пьет. Ну, рюмочку ему налейте, а стаканчиков не ставьте.
– Пусть вечерком зайдет, посмотрю. Хлопочешь... вместе теткину тыщу пропиваете, знаю тебя!
– И никак нет-с, разок только угостил, по случаю тетки.
– Ах, с... с...,– говорит отец.
– А во дворце-то как мучились...– говорит Фирсанов,– главный повар чуть от него не удавился. Из-за пирожков только и терпели... выгнали-таки.
– Дозвольте сказать, – опять просовывается Косой, – господин Энтальцев, поздравлятель... приятели с Кингой. И могу, говорит, для конпании, для разговора, умеет по-ихнему... у Бахрушина в сюртуке сидел, разговоры разговаривал с Кингой. Просится пообедать, для разговору.
– Вон что. Хорошо бы, правда...– говорит, обдумывая, отец, – у Куманина гувернантка разговаривала, у Губонина директор от Бромлея. Хоть и может Кинг по-нашему, а надо бы. Да только как бы не напился... и одежи у него нет приличной. Ну, можно ему сюртук дать.
– Теперь одетый ходит, после тетки тыща рублей ему досталась. И теперь только портвейн пьет. Ну, рюмочку ему налейте, а стаканчиков не ставьте.
– Пусть вечерком зайдет, посмотрю. Хлопочешь... вместе теткину тыщу пропиваете, знаю тебя!
– И никак нет-с, разок только угостил, по случаю тетки.
– Он, с... с... говорят, кошек ему зажаривал.
– Кошек не кошек, а галку за рябчика подавал. Такой ему дар от бога.
Отец говорит, что купечество уважило англичанина, на прощанье, и ему в грязь лицом ударить не годится, надо для русской чести; поедет к себе, будет рассказывать про Москву. – И меня учил верхом ездить, и плавать учил, еще мальчишкой я был. Известный человек, надо, Губонин в «Московском» его кормил. Куманин на французский манер, всякие салаты были, а я хочу его удивить, в сюрприз, настояще английским угостить.
Просовывается в дверь вихрастая голова Василь Василича, глаз весело стреляет, распухшее лицо красно,– Косой уж успел заправиться.
– Кошек не кошек, а галку за рябчика подавал. Такой ему дар от бога.
Отец говорит, что купечество уважило англичанина, на прощанье, и ему в грязь лицом ударить не годится, надо для русской чести; поедет к себе, будет рассказывать про Москву. – И меня учил верхом ездить, и плавать учил, еще мальчишкой я был. Известный человек, надо, Губонин в «Московском» его кормил. Куманин на французский манер, всякие салаты были, а я хочу его удивить, в сюрприз, настояще английским угостить.
Просовывается в дверь вихрастая голова Василь Василича, глаз весело стреляет, распухшее лицо красно,– Косой уж успел заправиться.
В. Муллин. Купцы гуляют. 2015
Вечером Горкин со скорняком сидят под сараем на досках, что-то все шепчутся. Я спрашиваю опять, почему обед небывалый, а Горкин только: «Папашенька чудит, не наше с тобой дело». Скорняк говорит: «Им не обед, а по шеям бы... мы турков победили, а они нам навредили!» Я спрашиваю: «Кому по шее?» А Горкин сердится: «Нечего тебе встреваться». И вдруг из кухни бежит Гаранька! И – прямо под колодец. Кричит Косому: «Качай, запарился!» Утирается колпаком, вытаскивает бутылку и, из горлышка,– буль-буль-буль. Глаза у Гараньки страшные – кровяные, на фартуке – нож огромный, болтается. Садится на доски, страшный. «Перцем этим глаза проело... Капризные черти. Каждый человек ест и хвалит, а энти... все не по их. Навидался во дворцах послов этих! Он не глядит на тебя, а... мычит, с... с... такой-сякой, я, первый человек!» Скорняк уважительно говорит Гараньке:
– И вот что, обратите внимание... почему они нам воспрепятствовали? Мы турков победили, а они...
– Дармоеды, больше ничего! – кричит страшным голосом Гаранька и опять булькает.– У Судака жил... галок им подавал, ло-пали! С ими как надоть?.. Ло-пай! А то – к лешему под хвост!..
– А ему почет-уважение, обе-ды! – говорит Косой.– На наших глазах вылупился. Панкратыч знает, как Мартына обманул... перешиб его наш Мартын, на Москва-реке плавали. Господа избаловали, сто тыщ он нажил, ездить учил! Без его не уме-ли... Десять годов тому казаки наши на Ходынку его заманивали, сто рублей закладу: пожалуйте потягаться, можете скусить гривенник с земли, на всем ходу? А на- ши скусывают. «Желаете скусить?»
– «Не желаю. Не желаю морду обземь бить... у вас морда казенная, а у меня заморская». Хитрый оказался. Пальцы-мейстер умолял, Козлов: «Господин Кинга, скусите гривенничек, покажите ловкоту!» Казаки ему вперед давали: «На суконку гривенник положим, морды не повредите, докажите!» Не стал, не может. «Я,– говорит,– по-ученому учу». Набаловали. Сто рублей на день выгонял! Барин Александров вдрызг прогорел, с ним крутился, все дороги ему открыли. И господин Энтальцев, пьяница наш... тоже весь израсходовался. Они вон кончились, а Кинга сто тыщ набрал, и почет-уважение ему. Чудит папашенька...– говорит мне Василь Василич, пыряя глазом,– а ты не сказывай, чего Косой говорил... мы промежду себя говорим.
– Чего ж черту такому в брюхо еще пинать? – кричит Гаранька, а Горкин ему ласково: «Не шуми, не шуми, Гараня».– Не шуми... Знал бы – не взялся бы нипочем... из уважения только к заказчику. Три ему перец, черту!» Вся охота у меня пропала. Чертенята мои как бы чего...
Булькает из бутылки и идет шуметь на кухню. Поварята, выглядывавшие в окошко, скрываются. В воротах показывается господин Энтальцев, в чесучовом пиджаке, в шляпе и с тросточкой: идет, помахивает. На нем даже и воротничок крахмальный, и помолодел будто, только нос еще больше раздулся и посинел и серые мешочки под глазами обвисли ниже.
– Легок на помине,– говорит Косой,– садитесь, господин Энтальцев.
– А, милашка...– сипит Энтальцев и треплет меня по щечке,– доложи папа, Валерьян Дмитрия, мол, по приглашению, для разговора.
– Я доложу,– говорит Косой,– не беспокойтесь, дело ваше на мазу; пировать будете, сюртучок вам и жилетку бархатную, в цветочках, подобрали.
– Погляжу, пойдет ли еще мне. Сигар, главное, не забудьте, англичане без сигар не могут. Бывало, курил – целковый штучка!
– Вот и прокурился.
– Не прокурился, а... благодетельствовал. Кингу, бывало, на сапоги давал, а вот – двести тысяч от нас везет! Встречаю намедни – дай четвертной, до завтра... деньги в банке, банк на замке, праздник. Трешник! Ну, не сквалыга?.. Черт с ним, пойду на пир, доставлю удовольствие, для шику.
Горкин крутит головой и машет: «А, грех с вами!» – и уходит к себе в каморку.
– И вот что, обратите внимание... почему они нам воспрепятствовали? Мы турков победили, а они...
– Дармоеды, больше ничего! – кричит страшным голосом Гаранька и опять булькает.– У Судака жил... галок им подавал, ло-пали! С ими как надоть?.. Ло-пай! А то – к лешему под хвост!..
– А ему почет-уважение, обе-ды! – говорит Косой.– На наших глазах вылупился. Панкратыч знает, как Мартына обманул... перешиб его наш Мартын, на Москва-реке плавали. Господа избаловали, сто тыщ он нажил, ездить учил! Без его не уме-ли... Десять годов тому казаки наши на Ходынку его заманивали, сто рублей закладу: пожалуйте потягаться, можете скусить гривенник с земли, на всем ходу? А на- ши скусывают. «Желаете скусить?»
– «Не желаю. Не желаю морду обземь бить... у вас морда казенная, а у меня заморская». Хитрый оказался. Пальцы-мейстер умолял, Козлов: «Господин Кинга, скусите гривенничек, покажите ловкоту!» Казаки ему вперед давали: «На суконку гривенник положим, морды не повредите, докажите!» Не стал, не может. «Я,– говорит,– по-ученому учу». Набаловали. Сто рублей на день выгонял! Барин Александров вдрызг прогорел, с ним крутился, все дороги ему открыли. И господин Энтальцев, пьяница наш... тоже весь израсходовался. Они вон кончились, а Кинга сто тыщ набрал, и почет-уважение ему. Чудит папашенька...– говорит мне Василь Василич, пыряя глазом,– а ты не сказывай, чего Косой говорил... мы промежду себя говорим.
– Чего ж черту такому в брюхо еще пинать? – кричит Гаранька, а Горкин ему ласково: «Не шуми, не шуми, Гараня».– Не шуми... Знал бы – не взялся бы нипочем... из уважения только к заказчику. Три ему перец, черту!» Вся охота у меня пропала. Чертенята мои как бы чего...
Булькает из бутылки и идет шуметь на кухню. Поварята, выглядывавшие в окошко, скрываются. В воротах показывается господин Энтальцев, в чесучовом пиджаке, в шляпе и с тросточкой: идет, помахивает. На нем даже и воротничок крахмальный, и помолодел будто, только нос еще больше раздулся и посинел и серые мешочки под глазами обвисли ниже.
– Легок на помине,– говорит Косой,– садитесь, господин Энтальцев.
– А, милашка...– сипит Энтальцев и треплет меня по щечке,– доложи папа, Валерьян Дмитрия, мол, по приглашению, для разговора.
– Я доложу,– говорит Косой,– не беспокойтесь, дело ваше на мазу; пировать будете, сюртучок вам и жилетку бархатную, в цветочках, подобрали.
– Погляжу, пойдет ли еще мне. Сигар, главное, не забудьте, англичане без сигар не могут. Бывало, курил – целковый штучка!
– Вот и прокурился.
– Не прокурился, а... благодетельствовал. Кингу, бывало, на сапоги давал, а вот – двести тысяч от нас везет! Встречаю намедни – дай четвертной, до завтра... деньги в банке, банк на замке, праздник. Трешник! Ну, не сквалыга?.. Черт с ним, пойду на пир, доставлю удовольствие, для шику.
Горкин крутит головой и машет: «А, грех с вами!» – и уходит к себе в каморку.
Съезжаются к обеду – Кашины, Соповы, Бутины-лесники, Болховитин-прасол,– в длинных сюртуках, важные. Барыни, в шумящих платьях, в шляпах, с золотыми длинными цепочками в передвижках, рассаживаются в гостиной. Фирсанов оглядывает парадный стол, заваленный серебром и хрусталями. Из коридора мне видно, как Энтальцев сидит под фикусом и потирает руки, а то заведет пальцы за пальцы и потрещит, покрякает. Оглядывает на себе сюртук, голубой бархатный жилет в цветочках. Смеясь, спрашивают его: «От Живого или от Мертвого?» Это такие магазины. Он потягивает повислый ус и старается рассмешить,– стыдно ему как будто: «Не пора ль нам, братцы, выпить? Не пора – ли закусить?» Говорят – пора, да Кинга вот запоздал. На парадном кричит Косой: «Кингу привезли, примайте!» Отец говорит: «Пантелеймона, что ли, привезли... примайте». Входит Кинг, в важном сюртуке и в серых брюках, лысый, сухой, высокий,в рыжеватых бачках, ставит палку с собачьей головой, и его ведут в столовую закусить. Энтальцев расшаркивается с Кингом, Кинг смеется: «А, машейкин!» Отец подбадривает: «Разговаривай, не робей». Официанты юлят, с тарелочками. Энтальцев причмокивает: «Амбрэ с гвоздичкой!» – и говорит: «Альон!» – должно быть, английское словечко. Говорят: «Нальем!» И Кинг говорит, совсем хорошо: «Вы-пьем». Фирсанов просит: «Самый английский сыр-с, с синдереем-с!» Наливают Кинге можжевеловой, которая называется по-английски – «жин». Энтальцев пристает к Кингу: «Скажи – можжевелка!» Говорят: «А ну-ка, выверни!» Кинг говорит: «Мижи-мелка!» Смеются: мышья елка. Энтальцев ходит с двумя бутылками, напевает «Стрелочка»: «Я хочу вам наливайт, наливайт, наливайт...» Косой за дверями шепчет: «Сейчас нарежется, никакого разговору от него не будет». Черный Кашин, крестный, кричит Энтальцеву: «Варя, шпарь ему по их!» Энтальцев говорит быстро, знакомое: «Анки-дранки-дивер-друх-тиберфабер-тибер-пух», а сам приплясывает. Кинг лопочет ему: «Гаулау», а Энтальцев наперебой: «Зендель-вендель козу гнал, Кинга денежки забрал!» Покатываются, кричат: «Загвазживай!» Кинг берет Энтальцева за нос: «Ти зулик, машейкин!» Энтальцев говорит в нос: «Все родимые слова знает, обучили мы его с Васькой Александровым... Скажи: «Черт!» Кинг устраивает губы, чтобы свистнуть, и выговаривает «Тчарт». Потом говорит: «А ти... ши-тра-па!» Фирсанов просит «опробовать самое которое англичаны уважают, зовется «спай-де-нас»,– все послы кушают, повар нахваливает». Говорят: «А ну, каков таков «спать-не-даст»?» Кинг пробует вилочкой что-то густое, красное, пучит глаза и набирает духу. Говорит, поперхнувшись: «У-у... казица... пи-пик... соус наш!» Пьет можжевеловку и набирает себе «пи-ки-пик». Пробуют и другие, говорят: «У, злющий, не продохнешь». А Кинг ест с удовольствием, хрипит: «Не весь мокут пик-пик наш!» Энтальцев тоже накладывает «пик-пик»,– не то едали! Хвалит – облизывается: «Медом... маслится хорошо... под него море выпьешь!» – поглаживает жилет. Отец отводит его подальше. Кинг накладывает еще «пи-пику», говорит: «машейкин»,– хорош.
В кухне шумит Гаранька. Марьюшка даже образа вынесла и гераньку, сидит – пригорюнилась в передней, без причалу, вздыхает-шепчет: «Нечистая сила, окаянный!» Я показываю ей, в утешение, картинки в поминанье, как душа по мытарствам ходит. Она вздыхает, тычет пальцем в картинку: «Вон он, в аду горит... живой Гаранька! И рыжий, и глаз зеленый, злющий... такой же окаянный!» В кухне, говорят, сущий ад. Поварята визжат в чаду, выскакивают на двор, как шпаренные, затылки все потирают: скалкой Гаранька лупит. Гремят кастрюли, плита так и полыхает,– как бы пожару не натворил. Косой заглядывает в окошко кухни и отходит на цыпочках, поднявши руки: «Ох, чего вытворяет мудрователь!» Затребовал льду корзину, дрова, чтобы без сучка, березовых... такой леестр прописал – половины в Охотном не достали, к Андрееву погнали, на Тверскую. Лимонов, синдерею, дикого меду палок, перцу самого едкого, хвостов бычачьих... на рябчиков и смотреть не стал – «с прострелом, не годятся!». На какие-то кеки-пряники ананасов затребовал... Поварята визжат: «Мельчей колите, а лучину велит щипать!» – Дровами недоволен. В кухню войти – боже сохрани! Дворник носил дрова... «Глядеть страшно,– говорит,– ножом пыряет, а кругом огонь и лед!» Все говорят: «Он и так-то въедлив, а как при деле – и не связывайся с ним лучше, ножом запорет». Я и к кухне не подхожу».
***
***
***


***
Двигаются к обеду, в залу. Подают суп из хвостов, «заячий пирог». Нахваливают, такого никогда не ели. Кинг говорит: «Эта такая... как ват, мягкий гразь»,– и просит еще кусок. Косой смотрит со мной за дверью, все крякает. Пахнет от него водкой, глаза остановились, страшные. Все уходят в столовую, закусить. Несут сомовину с красным соусом, потом индейку под синдереем... У Энтальцева нет стакана, но ему подносят из своего соседи. Просят: «Ну-ка, поговори!» Энтальцев встает со стаканчиком и начинает – по-английски: «Гау-лау... микки-вики... дую-вздую...» – как самый настоящий англичанин. Косой шепчет: «Гляди ты, как отличается». Все смеются, Кинг говорит: «Ти... ма-шейкин!» Несут «пудинг с пламенем», самое главное,– на серебряных блюдах башенки, румяные, в пупырьях, из середки и по бокам мотаются синие языки огня. Кинг кричит радостно: «Браво, наш пудинг, ура!» Косой вдруг вскрикивает, вбегает в залу и начинает плясать, как пьяный. Пролился огонь из блюда, официант споткнулся. Ничего, потушил Косой, вернулся ко мне, говорит: «Все во мне горит, пойду попью». В зале кричат, что пожар надо заливать. Шампанского! Хлопают пробки. Тянутся к Кингу чокнуться. Проходят в гостиную, на кофе. Кинг разваливается в креслах, закуривает «царскую» сигару. Всех обносят сигарами. Берут «на память» и некурящие. Энтальцев сует в карманы. Стелется облаками дым. Разносят кофе с какими-то «кеки-пряниками», на ананасе. Кинг в восторге кричит: «Сами ма...шейкин!» – значит, очень уж хорошо. Мы с Косым пробуем за дверью: совсем не пряники, а кулич с вареньем и миндалем. Проходит крестный, замечает меня, поднимает и говорит: «Идем, пропой англичанину песенку, мастер ты». Приносят и ставят перед Кингом. Кинг щелкает на меня зубами, вынимает из кошелька серебряный пятачок и говорит: «На костинцы, на чай... купи сахарни-сладки... Спей песеньку маленьку... бау-бау». Мне стыдно, но все просят, и отец велит спеть. Я начинаю «Ах, попалась, птичка, стой»,– смотрю в пуговку на животе у Кинга и вижу, как он... уже не вижу пуговки, а большая рука его трет жилет, и как будто что-то икает там. Я припеваю – «отпустите полетать, развяжите сети...» – и вдруг жилет поднимается, и серые коленки идут куда-то... Говорят: «Чего-то с ним, смотрите какой!» Кинг стоит у двери, сгибается и крякает, трет живот. Просит: «Ведите меня... пожалиста... очень скоро... не потерплю». Отец манит его, бежит, распахивает двери в сени. Кинг идет, прихватив живот. В гостиной гогот, все давятся, говорят: «Это вот угостили, по-английски!» В сенях страшный шум, будто бьют в пол ногами. Кричат: «не пускает, дверь на крюке!» Кинга уводят кверху, в другое место. Отец отчитывает Косого: «Чего заперся, мошенник?» – «Ну, мочи нет!» – говорит Косой, бледный, на себя непохож. Бежит Энтальцев, качается: «Ножами режет!» – кричит в сенях: «Уж не отравились ли, боже упаси?» – говорят кругом: «С огнем-то ели!» – «Нет, это не от огня, а... пик-пик-то этот... он сколько съел! И барин наш напробовался... спи-ка это».
Косого официанты уводят в мастерскую: совсем, говорят, свернуло. Уж не холера ли, на Хитровом, говорят, трое вчера скончалось. Ведут Кинга, зеленого, кладут на диван в столовой. Попить просит. Говорят: «Не давайте сырой воды, дать ему водки с солью». Ведут Энтальцева, укладывают на подушки на пол. Дают капли д-ра Иноземцева. Оба кряхтят и стонут. Послали за доктором Клином, Эраст Эрастычем. Отец растерян: еще трое недомогают. Клин – в городской больнице, рядом. Приезжает, осматривает, велит рвотного дать и молока побольше, компресс... Возможно, что и отравились, говорит.
Косого официанты уводят в мастерскую: совсем, говорят, свернуло. Уж не холера ли, на Хитровом, говорят, трое вчера скончалось. Ведут Кинга, зеленого, кладут на диван в столовой. Попить просит. Говорят: «Не давайте сырой воды, дать ему водки с солью». Ведут Энтальцева, укладывают на подушки на пол. Дают капли д-ра Иноземцева. Оба кряхтят и стонут. Послали за доктором Клином, Эраст Эрастычем. Отец растерян: еще трое недомогают. Клин – в городской больнице, рядом. Приезжает, осматривает, велит рвотного дать и молока побольше, компресс... Возможно, что и отравились, говорит.

Гости понемногу отъезжают. Клин велит позвать повара Гараньку, но Гаранька без задних ног. Трут ему уши плотники, приводят в чувство. Он мычит и мычит: «Пере-ло-жил... дикого меду... три палки...» Это вот в тот, в «пик-пик». Из кухни приходит Марьюшка, кричит: «Чего там, он, разбойник... касторка стояла в уголку, верховые сапоги барину смазывать, в соус ее и опростал, с озорства, поварята сказали!» Клин говорит: «Ну, это ничего, только полезно... да с перцем еще, вот и оказало скорое действие». Велит показать соус. Испуганный Фирсанов докладывает: «Что было – все Василь Василич вылизал, очень понравилось».
Уж и было смеху! Так все и говорили после, в поговорку: «Смотри, много не ешь, «кинги» не приключилось бы». Наутро спрашивают Гараньку, а он не помнит. «Да что я, враг, что ль, себе! Это старуха мне со злости напакостила, влила!» Спрашивают поварят, а они напугались, божатся – ничего не видали, а старуха захаживала, как Герасим Семеныч отлучался. Спрашивают Марьюшку, а она – хоть иконы сымать, всеми святыми божится: «Да что я, нехристь какая, что ли? людей травить?»
Так ничего и не дознались.
Уж и было смеху! Так все и говорили после, в поговорку: «Смотри, много не ешь, «кинги» не приключилось бы». Наутро спрашивают Гараньку, а он не помнит. «Да что я, враг, что ль, себе! Это старуха мне со злости напакостила, влила!» Спрашивают поварят, а они напугались, божатся – ничего не видали, а старуха захаживала, как Герасим Семеныч отлучался. Спрашивают Марьюшку, а она – хоть иконы сымать, всеми святыми божится: «Да что я, нехристь какая, что ли? людей травить?»
Так ничего и не дознались.
Декабрь, 1934 г