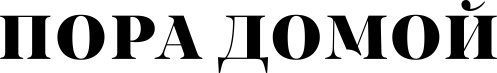Что вы делаете, когда к вам приходят неожиданные гости?
Правильно – ставите чайник. В эпоху наших далеких предков чаепитие было настоящим ритуалом. Стол накрывали скатертью и выставляли на него разнообразные угощения: пряники, пироги, булки, блины и оладьи, варенье, мед, пастилу. Сахарница была обязательной частью сервировки стола, а в более зажиточных домах гостям предлагали нарезанный дольками лимон… Традиционное русское чаепитие невозможно представить без бубликов и баранок. Славная традиция, добрая… Дошла до наших дней почти без изменений.
Правильно – ставите чайник. В эпоху наших далеких предков чаепитие было настоящим ритуалом. Стол накрывали скатертью и выставляли на него разнообразные угощения: пряники, пироги, булки, блины и оладьи, варенье, мед, пастилу. Сахарница была обязательной частью сервировки стола, а в более зажиточных домах гостям предлагали нарезанный дольками лимон… Традиционное русское чаепитие невозможно представить без бубликов и баранок. Славная традиция, добрая… Дошла до наших дней почти без изменений.
По одной из версий, чай в России появился в 1638 году, когда ко двору царя Михаила Федоровича привезли в качестве подарка три мешка «сушеной китайской травы». В начале XVIII века чай был дорог и, как любая иностранная редкость, доступен только элите: аристократии, высшему купечеству и высшему духовенству. Однако к середине XIX века чай стал самым популярным напитком практически у всех слоев населения. Тогда же у российских купцов вошло в привычку превращать каждое чаепитие в длительное и масштабное застолье. Сразу на ум приходит популярный сюжет картин Бориса Кустодиева – дородная купчиха сидит у самовара, где-нибудь на террасе, а на столе бублики, сайки, баранки и прочие крендельки…
«Валит из самовара пар, валит и изо ртов, клубами: хлопают кипяток. Отец макает бараночку, Горкин потягивает с блюдца, почмокивает сладко», – Иван Сергеевич Шмелев в книге «Лето Господне» описал не только Москву конца XIX века, быт своей семьи, но и кулинарные традиции. А в Великий пост – без баранок не обойтись. Первой вариацией национального русского хлеба были калачи, они упоминаются в древних письменных источниках, их изображения можно найти на ранних образцах изобразительного искусства. Например, в древнерусской книге о свадьбе Владимира Мономаха, датируемой 1117 годом, есть иллюстрация, на которой калачи служат украшением одной из миниатюр. Баранки на столах русской кухни появились значительно позже. Считается, что первые баранки появились в белорусском городе Сморгонь. Есть байка, что лакомство придумали… дрессировщики медведей. Была в Сморгони такая специальная школа, ее в веке открыли князья Радзивиллы: медведей учили трюкам, номерам, а после этого они выступали в цирке и на ярмарках по всей Европе. Отправляясь на медвежий промысел, дрессировщики запасались хлебными «консервами». Сначала замешивали крутое тесто из муки и воды, потом варили его в кипятке, резали на полоски и выпекали в печи. Постепенно полоски стали скручивать в баранки, чтобы дрессировщикам удобнее было носить их на веревках. А потом угощение распробовали и люди. Из других губерний, да что там – из других стран приезжали люди за сморгонскими баранками. Историк, литератор и этнограф Адам Киркор (1818-1886) в своем произведении «Живописная Россия» писал: «В Сморгони, Ошмянского повета, Виленской губернии, едва ли не все мещанское женское население занято выпечкой маленьких бубликов, или крендельков, пользующихся большой известностью под названием сморгонских обваранок. Каждый проезжий обязательно купит несколько связок этих бубликов; кроме того, их развозят в Вильно и иные города».
А вы знаете, откуда произошло выражение «баранки гну»?
Это только на первый, потребительский, взгляд, кажется, что сделать баранку просто. Выпечка настоящих русских баранок – производство трудоемкое. Крутое, хорошо вымешанное тесто раскатывали в жгут, зажимали большим пальцем жгут, обводили его вокруг остальных четырех или двух-трех пальцев (в зависимости от будущего диаметра). Так и появилось выражение «баранки гну». Слепленные колечки бросали в чан с кипятком, обваривали. Именно благодаря этой особенности у них появилось название «обваранки». Позже их стали называть «обваренками», затем «варенками» и, наконец, «баранками». По другой версии, название свое они получили за схожесть с бараньим рогом. Баранки затем подсушивали, смазывали маслом, чтобы они блестели, как солнышко, и припекали. Эти маленькие аппетитные колечки стали обязательными атрибутом чаепития.
Сушка. Еще одно маленькое кулинарное удовольствие. «Шла Саша по шоссе и сосала сушку…» В основе слова «сушка» главный признак очевиден. Изначально сушки предназначались для заготовки на зиму, так как долго не портились. Это-то понятно: в них меньше всего воды. Сушки брали с собой в походы и путешествия, они помогали выживать в голодные времена, в военное и послевоенное время. В давние времена на Руси в любом монастыре имелась печь, в которой их заготавливали. Сушки и баранки – не одно и то же. Тесто для сушек должно быть в меру сладким и достаточно крутым – в этом секрет их рассыпчатости и «долголетия». Срок хранения сушек – до трех месяцев. Для любого хлеба это довольно долго, поэтому сушки часто заготавливали на зиму, использовали для украшения дома, не боясь, что они испортятся или пересохнут.
Баранки – одно из блюд национальной кухни, которое не изменилось ни при революции 1917 года, ни под напором индустриализации СССР. В сказке Валентина Катаева «Цветик-семицветик» (написана в 1940 году) упоминаются четыре популярные разновидности баранок: тминные, маковые, сахарные и розовые. А еще были баранки лимонные, миндальные, шоколадные и, внимание, толстовские, гоголевские и пушкинские. Сейчас эта классификация нам уже непонятна, и такого разнообразия сушекбаранок, увы, нет. А вот еще: «Почувствовала Женя, что баранки стали что-то чересчур легкие. Обернулась, да уж поздно. Мочалка болтается пустая, а собака последнюю, розовую Павликову бараночку доедает, облизывается....» Мочалка! Баранки и бублики продавали не в пакетах, а связками. В книге Владимира Гиляровского «Москва и москвичи» упоминается «бараночное» мочало. «Его привозили специально в московские булочные и на него низали баранки и сушки; оно было втрое дороже кулевого».
Идеальная сушка должна разламываться на четыре части при нажатии.
Трещат баранки. Сайки, баранки, сушки… калужские, боровские, жиздринские, – сахарные, розовые, горчичные, с анисом – с тмином, с сольцой и маком… переславские бублики, витушки, подковки, жавороночки… хлеб лимонный, маковый, с шафраном, ситный весовой с изюмцем, пеклеванный…
Везде – баранка. Высоко, в бунтах. Манит с шестов на солнце, висит подборами, гроздями. Роются голуби в баранках, выклевывают серединки, склевывают мачок. Мы видим нашего Мурашу, борода в лопату, в мучной поддевке. На шее ожерелка из баранок. Высоко, в баранках, сидит его сынишка, ногой болтает.
– Во, пост-то!.. – весело кричит Мураша, – пошла бараночка, семой возок гоню!
– Сбитню, с бараночками… сбитню, угощу кого… Ходят в хомутах-баранках, пощелкивают сушкой, потрескивают вязки. Пахнет тепло мочалой.
– Ешь, Москва, не жалко!..
… У Муравлятникова пылают печи. В проволочное окошко видно, как вываливают на белый широкий стол поджаристые баранки из корзины, из печи только. Мальчишки длинными иглами с мочальными хвостами ловко подхватывают их в вязочки.
– Эй, Мураша… давай-ко ты нам с ним горячих вязочку… с пылу, с жару, на грош пару! Сам Муравлятников, борода в лопату, приподнимает сетку и подает мне первую вязочку горячих.
– С Великим Постом, кушайте, сударь, на здоровьице… самое наше постное угощенье – бараночки-с.
Я радостно прижимаю горячую вязочку к груди, у шеи. Пышет печеным жаром, баранками, мочалой теплой. Прикладываю щеки – жжется. Хрустят, горячие. А завтра будет чудесный день! И потом, и еще потом, много-много, – и все чудесные.
И. Шмелев. Лето Господне
Везде – баранка. Высоко, в бунтах. Манит с шестов на солнце, висит подборами, гроздями. Роются голуби в баранках, выклевывают серединки, склевывают мачок. Мы видим нашего Мурашу, борода в лопату, в мучной поддевке. На шее ожерелка из баранок. Высоко, в баранках, сидит его сынишка, ногой болтает.
– Во, пост-то!.. – весело кричит Мураша, – пошла бараночка, семой возок гоню!
– Сбитню, с бараночками… сбитню, угощу кого… Ходят в хомутах-баранках, пощелкивают сушкой, потрескивают вязки. Пахнет тепло мочалой.
– Ешь, Москва, не жалко!..
… У Муравлятникова пылают печи. В проволочное окошко видно, как вываливают на белый широкий стол поджаристые баранки из корзины, из печи только. Мальчишки длинными иглами с мочальными хвостами ловко подхватывают их в вязочки.
– Эй, Мураша… давай-ко ты нам с ним горячих вязочку… с пылу, с жару, на грош пару! Сам Муравлятников, борода в лопату, приподнимает сетку и подает мне первую вязочку горячих.
– С Великим Постом, кушайте, сударь, на здоровьице… самое наше постное угощенье – бараночки-с.
Я радостно прижимаю горячую вязочку к груди, у шеи. Пышет печеным жаром, баранками, мочалой теплой. Прикладываю щеки – жжется. Хрустят, горячие. А завтра будет чудесный день! И потом, и еще потом, много-много, – и все чудесные.
И. Шмелев. Лето Господне