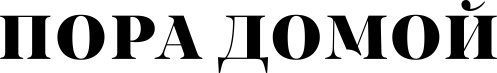Деятельность Ф.П. Гааза осуществлялась за несколько десятилетий до возникновения Международного движения Красного креста.
Жизнь и деятельность врача-филантропа Федора Петровича Гааза – замечательный пример врачебного долга и подлинного благородства в служении больным и страждущим людям. Современники прозвали Федора Гааза «святым доктором», он стал легендой еще при жизни, а упоминания о нем можно встретить в произведениях Ф. Достоевского и А. Чехова. Известный юрист Анатолий Кони писал в своем очерке о Гаазе: «Среди равнодушного и преданного личным «злобам дня» общества, грозило умереть и то отношение к «несчастным», которому были всецело отданы лучшие силы его души. Вот почему для нас, русских, его личность представляет огромный интерес».
Его знали и уважали в салонах вельмож, в столичных больницах и… на каторге. Одни считали врача чудаком, другие фанатиком, третьи – блаженным праведником.
Об этом удивительном враче до сих пор рассказывают, казалось бы, невероятные истории.
В 1805 году девятнадцатилетний Фридрих Йозеф Гааз окончил в Германии курс медицинских наук и, став врачом окулистом, переехал в Вену. Врачебную присягу Гааз принял в Вене 1 сентября 1805 г. Однажды спас от наступающей слепоты родственницу российского дипломата (по другой версии помог самому дипломату). Вскоре после этого принял приглашение стать домашним врачом княжеской четы в Москве, после завершения срока действия договора Фридрих решил остаться в России. К тому времени у него уже была обширная частная практика, разбогател, приобрел дом в центре города, а также имение с крепостными и суконную фабрику в Подмосковье.
Помимо частной практики, Гааз в качестве терапевта лечил бедняков в московских больницах – Преображенской и Старо-Екатерининской. Его деятельность не осталась незамеченной, а его успехи в медицине были настолько впечатляющими, что вдовствующая императрица Мария Федоровна приняла решение о назначении доктора Гааза на государственную службу. В 1807 году, когда ему было всего 27 лет, он стал главным врачом Павловской больницы (ныне – городская клиническая больница №4 г. Москвы).
Его знали и уважали в салонах вельмож, в столичных больницах и… на каторге. Одни считали врача чудаком, другие фанатиком, третьи – блаженным праведником.
Об этом удивительном враче до сих пор рассказывают, казалось бы, невероятные истории.
В 1805 году девятнадцатилетний Фридрих Йозеф Гааз окончил в Германии курс медицинских наук и, став врачом окулистом, переехал в Вену. Врачебную присягу Гааз принял в Вене 1 сентября 1805 г. Однажды спас от наступающей слепоты родственницу российского дипломата (по другой версии помог самому дипломату). Вскоре после этого принял приглашение стать домашним врачом княжеской четы в Москве, после завершения срока действия договора Фридрих решил остаться в России. К тому времени у него уже была обширная частная практика, разбогател, приобрел дом в центре города, а также имение с крепостными и суконную фабрику в Подмосковье.
Помимо частной практики, Гааз в качестве терапевта лечил бедняков в московских больницах – Преображенской и Старо-Екатерининской. Его деятельность не осталась незамеченной, а его успехи в медицине были настолько впечатляющими, что вдовствующая императрица Мария Федоровна приняла решение о назначении доктора Гааза на государственную службу. В 1807 году, когда ему было всего 27 лет, он стал главным врачом Павловской больницы (ныне – городская клиническая больница №4 г. Москвы).
В 1809-1810 годах Гааз побывал на Северном Кавказе. Там он объехал и описал неизвестные в то время источники в Минеральных Водах, Кисловодске, Пятигорске, Железноводске (Ессентуки). После этого на кавказских источниках начали открывать курорты. А источник №23 в Ессентуках до сих пор называют Гаазовским.
Во время Отечественной войны 1812 года доктор Гааз был военным врачом в русской армии, дошел до Парижа. Уйдя в отставку, отправился домой в Германию к умирающему отцу, а после похорон вернулся в Россию. Навсегда. Он даже представляться стал не Фридрихом Йозефом, а Федором Петровичем.
В 1825 году светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын, герой войны с Наполеоном и градоначальник Москвы, предложил Федору Петровичу возглавить здравоохранение столицы. На посту главного врача Гааз с энтузиазмом взялся за работу: навел чистоту в лечебницах и порядок на аптекарских складах (даже приказал развести кошек, чтоб ловили мышей и крыс), мечтал наладить систему неотложной медицинской помощи. И нажил себе врагов.
Раньше лекарства в лечебницах можно было воровать и списывать на мышей, а теперь все упорядочили. Чиновники, заведующие больницами, стали писать на Гааза целую гору жалоб и доносов, называя его проекты вздорными и ненужными... Страшную болезнь – казнокрадство – Гааз победить не смог. Он подал в отставку, решив, что больше пользы принесет, работая рядовым врачом.
Во время Отечественной войны 1812 года доктор Гааз был военным врачом в русской армии, дошел до Парижа. Уйдя в отставку, отправился домой в Германию к умирающему отцу, а после похорон вернулся в Россию. Навсегда. Он даже представляться стал не Фридрихом Йозефом, а Федором Петровичем.
В 1825 году светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын, герой войны с Наполеоном и градоначальник Москвы, предложил Федору Петровичу возглавить здравоохранение столицы. На посту главного врача Гааз с энтузиазмом взялся за работу: навел чистоту в лечебницах и порядок на аптекарских складах (даже приказал развести кошек, чтоб ловили мышей и крыс), мечтал наладить систему неотложной медицинской помощи. И нажил себе врагов.
Раньше лекарства в лечебницах можно было воровать и списывать на мышей, а теперь все упорядочили. Чиновники, заведующие больницами, стали писать на Гааза целую гору жалоб и доносов, называя его проекты вздорными и ненужными... Страшную болезнь – казнокрадство – Гааз победить не смог. Он подал в отставку, решив, что больше пользы принесет, работая рядовым врачом.
Гааз начал исследовать круп, эпидемия которого полыхала в стране на протяжении 5 лет. Он стал первым российским ученым, подробнейшим образом описавшим это заболевание.
Боролся с эпидемиями тифа в 1825 году, трахомы – в 1826. В 1830 и 1847- 1848 гг. добровольно принимал активное участие в борьбе с эпидемией холеры в Москве, заведовал временными холерными больницами.
Боролся с эпидемиями тифа в 1825 году, трахомы – в 1826. В 1830 и 1847- 1848 гг. добровольно принимал активное участие в борьбе с эпидемией холеры в Москве, заведовал временными холерными больницами.
«Когда ему приходилось отправляться куда-нибудь на обед, и он решался взять извозчика, он долго торговался, часто имея в кармане всего двадцать копеек; вдруг появлялся какой-нибудь нищий (они всегда бродили вокруг этого достойного человека), он отдавал ему монету и уходил большими шагами, забрызгивая грязью свои чулки, напутствуемый бранью извозчика. Мы встретили его однажды: извозчик ехал следом за ним, осыпая его руганью, а он, согнувшись, нахлобучив шляпу, убегал от ругательств, под на смешки толпы», – вспоминала графиня Лидия Ростопчина.
Семьи своей Федор Петрович так и не завел, да и ученик известен всего один – Николай Норшин, которому он когда-то спас жизнь. Государство время от времени пыталось как-то поощрить доктора, но Гааз не принимал финансовую помощь для себя и никогда не просил за себя, ибо считал, что «настоящей нашей собственностью остается только то, что мы раздаем». Так что из почестей у него было только два ордена – Святого Владимира 4-й степени и Святой Анны 2-й степени.
Когда в 1853 году Гааз умер, в прощальной процессии участвовало 20 тысяч человек. Похоронили «святого доктора» на деньги полиции – его личных средств не хватило. Гааз был католиком, но при этом поддерживал тесное общение со многими православными священниками и считал, что имеющееся разделение христианских церквей «очень печально». Отпевали его по православному обряду. Московский митрополит Филарет лично разрешил священнику допустить это на рушение.
Доктора Гааза помнят и сегодня. В 2018 году Ватикан официально причислил доктора Фридриха Иозефа Гааза к лику блаженных. В честь него названы улицы в Германии, в его родном городке, и в России: в Москве, Железноводске и Ессентуках. Ему установлено несколько памятников. Во дворе Александровской больницы сейчас находится памятник Ф. П. Гаазу скульптора Н. А. Андреева, который был установлен в 1909 г. На надгробном памятнике Гааза, на немецком (Введенском) кладбище в Москве, вы гравировано «Спешите делать добро».
Семьи своей Федор Петрович так и не завел, да и ученик известен всего один – Николай Норшин, которому он когда-то спас жизнь. Государство время от времени пыталось как-то поощрить доктора, но Гааз не принимал финансовую помощь для себя и никогда не просил за себя, ибо считал, что «настоящей нашей собственностью остается только то, что мы раздаем». Так что из почестей у него было только два ордена – Святого Владимира 4-й степени и Святой Анны 2-й степени.
Когда в 1853 году Гааз умер, в прощальной процессии участвовало 20 тысяч человек. Похоронили «святого доктора» на деньги полиции – его личных средств не хватило. Гааз был католиком, но при этом поддерживал тесное общение со многими православными священниками и считал, что имеющееся разделение христианских церквей «очень печально». Отпевали его по православному обряду. Московский митрополит Филарет лично разрешил священнику допустить это на рушение.
Доктора Гааза помнят и сегодня. В 2018 году Ватикан официально причислил доктора Фридриха Иозефа Гааза к лику блаженных. В честь него названы улицы в Германии, в его родном городке, и в России: в Москве, Железноводске и Ессентуках. Ему установлено несколько памятников. Во дворе Александровской больницы сейчас находится памятник Ф. П. Гаазу скульптора Н. А. Андреева, который был установлен в 1909 г. На надгробном памятнике Гааза, на немецком (Введенском) кладбище в Москве, вы гравировано «Спешите делать добро».
В произведении «Былое и думы» А.И. Герцен рассказывает о том, как Ф.П. Гааз посещал пересыльную тюрьму, расположенную на Воробьевых горах: «…он ездил их осматривать и всегда привозил с собой корзину всякой всячины, съестных припасов и разных лакомств – грецких орехов, пряников, апельсинов и яблок для женщин. Это возбуждало гнев и негодование благотворительных дам, боящихся благотворением сделать удовольствие, боящихся больше благотворить, чем нужно, чтоб спасти от голодной смерти и трескучих морозов».
Простой народ считал Гааза чудаком. За то, что жил скромно, а все доходы тратил на арестантов и бедняков. За то, что ездил в своей пролетке по Москве, подбирал тяжелобольных и возил их по больницам, прося принять.
Простой народ считал Гааза чудаком. За то, что жил скромно, а все доходы тратил на арестантов и бедняков. За то, что ездил в своей пролетке по Москве, подбирал тяжелобольных и возил их по больницам, прося принять.
На Гааза постоянно поступали жалобы, и даже было возбуждено уголовное дело, в котором его обвиняли в попытке организации побега опасных рецидивистов. Основанием для этого послужили встречи и разговоры доктора с этими людьми. Уставший от доносов и настойчивости Гааза митрополит Московский и Коломенский Филарет на одном из заседаний тюремного комитета сказал: «Если кто осужден, то, значит, виновен». Гааз в ответ: «Владыко! Да вы Христа забыли, невинно осужденного!» Все замерли. Такого с главой русской церкви себе никто не позволял. А Филарет ответил: «Это не я забыл Христа. Это Христос забыл меня». Отныне владыка во всем помогал Гаазу. Еще в 1834 году Гааз обнаружил, что на складе редко имеются Псалтирь и Новый Завет на церковнославянском и русском языках, и известил Тюремный комитет о необходимости издания Нового Завета на русском языке для арестантов, не знающих церковнославянского. Идея не прошла, но Гааз вернулся к ней в 1845 году, сделав специальный доклад на заседании комитета. Митрополит Московский Филарет поддержал идею, но только 26 апреля 1847 года Синод разрешил на печатать Новый Завет в Московской синодальной типографии за счет Комитета. Тираж вышел в 1850 году.
В 1839 г. Гааза вывели из тюремного комитета, но он продолжил заниматься благотворительностью с еще большим усердием. А к тому времени у Гааза уже не было ни московского особняка, ни загородной усадьбы, ни фабрики, ни крестьян, ни кареты с белоснежными скакунами – Гааз все продал, бессребреник, он все тратил на помощь беднякам.
В 1839 г. Гааза вывели из тюремного комитета, но он продолжил заниматься благотворительностью с еще большим усердием. А к тому времени у Гааза уже не было ни московского особняка, ни загородной усадьбы, ни фабрики, ни крестьян, ни кареты с белоснежными скакунами – Гааз все продал, бессребреник, он все тратил на помощь беднякам.
Изначально больница именовалась Полицейской, затем в честь императора Александра III она получила название Александровской, но современники-москвичи называли ее Гаазовской. Сам доктор поселился при больнице в маленькой двух комнатной квартире.
Новый этап в жизни Федора Гааза наступил в 1828 году, когда вошел в состав комитета Попечительного о тюрьмах общества, став одновременно секретарем и главным врачом московских тюрем. Новое назначение стало для него в определенной степени судьбоносным. В этой должности Гааз превратился в заступника осужденных, чьи судьбы и права мало кого волновали, делал для арестантов все, что было в его силах.
Гааз добился ряда послаблений для арестантов. Он изобрел конструкцию облегченных кандалов и сам испытывал их, чтобы понять, как долго человек может пройти в них без ущерба здоровью; настоял на организации пересыльной тюрьмы на Воробьевых горах, где идущие по этапу могли подлечиться и от дохнуть. Усилиями Гааза в пересыльной тюрьме была построена церковь, а затем лазарет, мастерские для заключенных, приют со школой для детей заключенных и дом для следующих за ссыльными жен, где квартиры сдавались совсем дешево. Среди арестантов даже ходила такая присказка: «У Гааза нет отказа». Известен случай с императором Николаем I, когда доктор Гааз, знавший его лично, встал перед ним на колени, когда тот посещал тюрьму, с ходатайством за одного больного старика, прося помиловать его, и только получив то, о чем просил, встал с колен.
Каждое утро, помолившись, он начинал принимать больных у себя дома. В девять отправлялся в пересыльную тюрьму на Воробьевых горах. После обеда, состоящего из каши на воде, он ехал в «Бутырку». После скромного ужина Федор Петрович принимал пациентов в больнице. И так продолжалось из года в год, без выходных… «Спешите делать добро!» – не уставал повторять доктор Гааз.
Более 20 лет Гааз лично провожал арестантские партии, закупая лекарства, одежду и провизию на личные средства и пожертвования; покупал бандажи для страдающих грыжами. Гааз переписывался с арестантами, исполнял их просьбы, встречался с их родными, высылал деньги и книги. Каторжане писали Федору Петровичу из своих застенков-острогов: «Никого нету, чтобы заступиться за нас. Только Христос. И вы». Ссыльные, включая воров и убийц, после возвращения в Москву справлялись о его здоровье.
В Москве бытовала история о том, как Гааз шел зимней ночью к какому-то больному, и в глухом переулке лихие люди хотели снять с него шубу. Федор Петрович лишь попросил позволения дойти до нужного места и предложил грабителям потом зайти за шубой в Полицейскую больницу к доктору Гаазу. Разбойники долго просили прощения: «Ну, как же, батюшка, не признали тебя, давай, мы тебя проводим».
Новый этап в жизни Федора Гааза наступил в 1828 году, когда вошел в состав комитета Попечительного о тюрьмах общества, став одновременно секретарем и главным врачом московских тюрем. Новое назначение стало для него в определенной степени судьбоносным. В этой должности Гааз превратился в заступника осужденных, чьи судьбы и права мало кого волновали, делал для арестантов все, что было в его силах.
Гааз добился ряда послаблений для арестантов. Он изобрел конструкцию облегченных кандалов и сам испытывал их, чтобы понять, как долго человек может пройти в них без ущерба здоровью; настоял на организации пересыльной тюрьмы на Воробьевых горах, где идущие по этапу могли подлечиться и от дохнуть. Усилиями Гааза в пересыльной тюрьме была построена церковь, а затем лазарет, мастерские для заключенных, приют со школой для детей заключенных и дом для следующих за ссыльными жен, где квартиры сдавались совсем дешево. Среди арестантов даже ходила такая присказка: «У Гааза нет отказа». Известен случай с императором Николаем I, когда доктор Гааз, знавший его лично, встал перед ним на колени, когда тот посещал тюрьму, с ходатайством за одного больного старика, прося помиловать его, и только получив то, о чем просил, встал с колен.
Каждое утро, помолившись, он начинал принимать больных у себя дома. В девять отправлялся в пересыльную тюрьму на Воробьевых горах. После обеда, состоящего из каши на воде, он ехал в «Бутырку». После скромного ужина Федор Петрович принимал пациентов в больнице. И так продолжалось из года в год, без выходных… «Спешите делать добро!» – не уставал повторять доктор Гааз.
Более 20 лет Гааз лично провожал арестантские партии, закупая лекарства, одежду и провизию на личные средства и пожертвования; покупал бандажи для страдающих грыжами. Гааз переписывался с арестантами, исполнял их просьбы, встречался с их родными, высылал деньги и книги. Каторжане писали Федору Петровичу из своих застенков-острогов: «Никого нету, чтобы заступиться за нас. Только Христос. И вы». Ссыльные, включая воров и убийц, после возвращения в Москву справлялись о его здоровье.
В Москве бытовала история о том, как Гааз шел зимней ночью к какому-то больному, и в глухом переулке лихие люди хотели снять с него шубу. Федор Петрович лишь попросил позволения дойти до нужного места и предложил грабителям потом зайти за шубой в Полицейскую больницу к доктору Гаазу. Разбойники долго просили прощения: «Ну, как же, батюшка, не признали тебя, давай, мы тебя проводим».
В 1825 году Гааз обратился с ходатайством к генерал-губернатору Москвы князю Голицыну о введении должности особого врача для наблюдения за внезапно заболевшими и нуждавшимися в немедленной помощи. В прошении было отказано. Идея была названа «излишней и бесполезной», поскольку и без того врачи имеются при каждой полицейской части. Осуществить ее удалось лишь в 1844 году, когда в распоряжении Екатерининской больницы оказался казенный дом близ Покровки, доктор самочинно стал принимать там бесприютных больных, нищих бродяг. Принимал пациентов бесплатно. Это была первая больница скорой помощи в Москве.